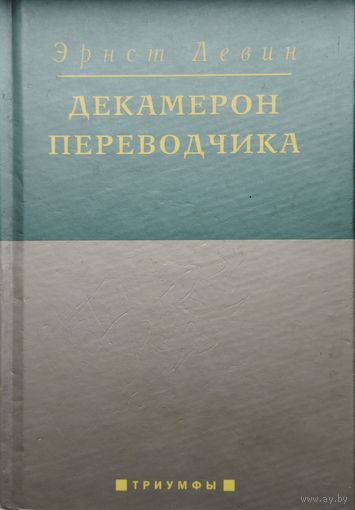Эрнст Левин "Декамерон переводчика"
Минск, Беларусь
| Состояние | Хорошее |
| Автор | Левин Э. |
| Издательство | Время |
| Год издания | 2000 |
| Переплет | Твердый переплет |
Тираж 1000 экз. 368 стр. Чудесное это дело – перевод! Хотя и боязно иногда до жути за него браться. Почему – вот отчасти в прекрасной книжице Эрнста Левина хоть и неочевидный, и в словах не выраженный, но всё-таки ответ. За тридцать лет переводческой работы я, лично, так никогда ни разу и не решился переводить стихи. А уж к переводам с использованием подстрочника у меня и вовсе всегда было такое как бы зябкое отношение, с охотой поёжиться, поплотнее укутаться в старый уютный плед и спрятаться в надёжном его тепле. Ну например – думаю я – понравятся нынче от души какому-нибудь молодому калифорнийскому поэту вот эти строки: «Мой первый друг, мой друг бесценный! / И я судьбу благословил, / Когда мой двор уединенный, / Печальным снегом занесенный, / Твой колокольчик огласил.» И запросит калифорнийский поэт, в России никогда не бывавший и русским языком владеющий не то чтобы очень, на всякий случай подстрочник. И уж с ним под рукой возьмётся переводить полюбившиеся, скажем, за удивительную музыкальность строфы. И вот как он переведёт «колокольчик»? Знает он, что Пущин к Пушкину в гости на санях приезжал? А что такое сани, и как они выглядят – знает? Ведь в Калифорнии на санях отродясь не ездили, и уж тем более с колокольчиками. Докопается он? Хватит ему дотошности? Или ограничится быстрой догадкой об устройстве на входной двери для оповещения хозяев о прибытии гостей? Или посложнее задачка (у меня, как и у Левина, и у всех переводчиков, тоже свои любимые примеры есть): «Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился.» В той же Калифорнии, знает переводчик, в какой российской социальной прослойке принято дружески обращаться друг к другу по фамильярно усечённому отчеству, а в какой – наоборот, не принято? В какой из этих прослоек любили давать детям сложные иностранные имена, а в какой – почитали за глупый выпендрёж? В первой половине девятнадцатого века (когда должен был родиться отец старика Ромуальдыча)? В какой из них носили портянки, а в какой – не носили? И вообще, что это такое – портянка (да и отчество тоже)? Ну и в итоге: что же это тогда за персонаж в глухой российской провинции 30-х годов прошлого века, которого на старости лет Ромуальдычем кличут, и у которого портянки давно и окончательно не стираны? И какая из правильных ответов на все эти вопросы судьба человека вырисовывается? А самое-то главное – даже и зная правильные ответы, и судьбу удивительную старика и целой губернии представив верно, как же всё это донести до калифорнийских читателей, сохранив и музыку теперь уже этой строфы, и словечки её такие для калифорнийцев необычные, да к тому же скрытым от них смыслом переполненные? От этих-то именно непростых вопросов я и «поёживаюсь», и «в плед кутаюсь», когда на некоторые «строфы» гляжу. А потому и читал книжицу Левина с интересом и удовольствием: ведь он из тех, кто, в отличие от меня, не боится и не ёжится. А как за Пушкина – самого Пушкина! – и его переводную балладу «Будрыс и его сыновья» по делу взялся? Прелесть! Ну и меня, значит, сомнение в который раз гложет: может, просто чересчур трусоват я? Вот искал, значит, в книжечке ответа. И не нашёл. Как добрался до шестой новеллы в «Декамероне» - так и понял окончательно, что не будет мне обнадёживающего совета, не вдохнёт в меня автор своим примером отваги. И вот почему. Шестая в декамероне Левина новелла – про «Стансы» Байрона. В которой автор очень правильно переводчиков «Стансов» укоряет, что не поняли они байроновского сарказма и потому изобразили кто что, но только не Байроново сетование. И пишет дальше, что в своём переводе он «лишь уточнил смысл и попытался вместо маршаковского пафоса восстановить байроновский скептицизм и иронию» (я бы, правда, скорее написал бы «байроновские»). «Скептицизм» же этот, по-моему, очень сродни «портянке Ромуальдыча». То есть требует достаточно ясного представления об «английской глубинке», о которой в «Стансах», собственно, и идёт речь. И если по порядку попытаться её усвоить, то должно получиться примерно вот что.
Байрон – весьма родовитый аристократ Британской империи со вполне аристократическим взглядом на мир. Знаменитый и почитаемый восторженными современниками-соотечественниками поэт. И одновременно, как отмечают его биографы – осмеиваемый теми же современниками политический полемист. Если кратко: за поэзию его очень хвалили, за публичные выступления в пользу свободы – над ним «люди его круга» потешались (что в аристократических кругах преуспевавшей и процветавшей империи, над которой никогда не заходило солнце, никак не удивительно). При этом боролся Байрон за свободу в основном в Италии (в Греции – только совсем уже перед смертью), то есть за пределами Великой Британии. Зная это, трудно не предположить, что своими «Стансами» Байрон просто огрызнулся в ответ всем насмешникам и одновременно как бы посетовал по поводу выпавшей ему доли. Очень это у него получилось по-«пушкински» - или ещё по-«лермонтовски» (хотя, конечно, на деле у них получалось «по-байроновски», а не наоборот). Это, так сказать, общий фон, глобальный контекст. А дальше – нужно перейти на медленный шаг и прочитать строку за строкой. Глазами тех, кому «Стансы» были адресованы: то есть глазами британских современников Байрона.
|
|
Похожие лоты